Тот же Вильке — однако, не он первый и не он один — исследовал новый источник электричества. В брошюре «Curiöse Speculationes bei schlaflosen Nächten von einem Liebhaber der immer gern speculirt» (Хемниц и Лейпциг, 1707) сообщается, что голландцы привезли в 1703 г. с Цейлона камень, называемый турмалином или турмалем, который, будучи нагрет, притягивает к себе и отталкивает частички золы, отчего его называют также зольным камнем. Около 1717 г. Лемери показывал этот камень Парижской академии, и так как его притягательная сила считалась магнитной, камень получил название цейлонского магнита. Линней первый стал подозревать в нем электрические свойства и назвал его lapis electricus; в 1757 г. Эпинус рядом опытов, проведенных им в Берлине совместно с Вильке, показал, что этот камень при нагревании приобретает электрические свойства. Эти исследователи нашли, что от нагревания противоположных сторон турмалина получаются разноименные электричества; пока эти стороны одинаково нагреты, камень остается в нормальном ненаэлектризованном состоянии, но лишь только одна сторона нагрета сильнее другой, минерал становится наэлектризованным. Эпинус изложил эти опыты в мемуарах Берлинской академии за 1756 г., а Вильке — в своей диссертации «De elecricitatibus contrariis». Позднее Эпинус опубликовал собрание работ о турмалине в «Recueil des differents memoires sur le tourmaline» (Петербург, 1762); а затем этот вопрос разрабатывался Уильсоном, Кантоном, Бергманном, Пристлеем и Вильке, но без особо выдающихся результатов.
Когда вслед за Ньютоном почти все физики признали всеобщее притяжение материи, действующее непосредственно на расстояние, то притягательными силами начали объяснять также и твердость тел, волосность, упругость и пр. Картезианские начала были отсюда устранены даже скорее, чем из области магнетизма и электричества. Впрочем, здесь приходилось признавать существование различных сил; так, тяготение, действующее между светилами, строго отличали от сил междуатомных, действующих на незаметно малых расстояниях. Развивавшаяся постепенно новейшая атомистика почти не встречала заметного сопротивления. Принятие атомных сил уже не вызывало затруднений после того, как всеобщее тяготение одержало победу в умах; даже спор о существовании пустого пространства замолк за недостатком новых точек зрения, и только вопрос о делимости материи возбуждал еще сомнение, а неделимость атомов встречала решительных противников.
Лейбниц с его монадологией с философской точки зрения подошел к атомистике очень близко, но его монады были слишком странными существами, чтобы физика могла их использовать. Эйлер в сочинении («Von den Elementen der Körper» 1746) выступает решительным противником Лейбница. В виде простых элементарных вещей монады существовать не могут, так как на основании опыта все тела делимы. Если же монады признать бесконечно малыми, то возникает противоречие: из конечного числа таких бесконечно малых величин тело состоять не может; с другой стороны, тело, состоящее из бесконечного числа частей, тоже немыслимо. Некоторые другие физики тоже высказывали свои метафизические сомнения по поводу трудности теории атомов. Так, Нолле в своих «Lecons de physique» (Париж, 1743—1750) говорит, что хотя мысленно материя и бесконечно делима, но, с другой стороны, действительная делимость еще не является достоверной; в заключение он замечает, что в силу ограниченности нашего познания этот вопрос вообще является неразрешимым, Боскович считает трудный вопрос о делимости атомов беспредметным и заодно пытается свести все виды притяжения материи и ее частей на действие одной только силы. Его труд представляет единственное натурфилософское сочинение за период времени от ньютоновских «Начал» до кантовских «Metaphysiche Anfangsgründe der Naturwissenschaft», 1786 г.

РОЖЕР ИОЗЕФ БОСКОВИЧ родился 8 мая 1711 г. в Рагузе, был с 1740 г. профессором в римском Collegio romano, потом профессором в Павии, а в 1773 г. переселился в Париж. Отсюда из-за несогласия с д'Аламбером он переехал в Милан, где и умер 13 февраля 1787 г. Свою систему он изложил сначала в ряде небольших статей, а затем в полном виде в сочинении «Phylosophiae naturalis Theoria, redacta ad legen virium in natura existentium» (Вена, 1759). По его мнению, материя состоит из точек, не имеющих протяжения, распределенных в беспредельном пустом пространстве таким образом, что взаимные расстояния их хотя и могут быть бесконечно малы, но не равны нулю. Точки не являются только местами в пространстве, это не математические, а физические точки, обладающие инерцией и определенной активной силой, благодаря которой они взаимно притягиваются или отталкиваются. Эта активная сила во всей вселенной одна и та же, она изменяется лишь в зависимости от положения точек. Именно, сила, действующая между каждыми двумя точками на самых малых расстояниях, отталкивательная и делается бесконечно большой, когда расстояние, уменьшаясь, приближается к нулю; оттого точки никогда не могут сблизиться до взаимного соприкосновения. С увеличением расстояний отталкивательния сила уменьшается до нуля, переходя затем в притягательную силу, которая вначале, с увеличением расстояния возрастает, а потом постепенно уменьшается до нуля, чтобы затем снова перейти в отталкивательную силу. Таких переходов уже в пределах незаметных расстоянии бывает несколько. Но когда расстояния становятся заметными, эта сила переходит в известную форму всеобщего тяготения, которая следует известному закону обратной пропорциональности квадратам расстояний и превращается в нуль только на бесконечно больших расстояниях.
С помощью этой гипотетической силы и своих атомных точек Боскович дальше очень просто объясняет такие свойства материи, как сцепление, упругость и тяжесть. Между телами, находящимися на конечных расстояниях, атомные силы действуют исключительно как тяжесть; между частицами же тела на бесконечно малых расстояниях сила претерпевает описанные выше превращения. Частицы твердых тел находятся на таких взаимных расстояниях, которые как раз соответствуют переходу силы из отталкивания в притяжение. Если тело растягивать, т. е. отделять его частицы, то атомная сила проявляется в виде притяжения, стремящегося вернуть частицы в прежнее положение. Если же тело сжимать, то та же сила становится отталкивательной и опять-таки стремится восстановить прежнее состояние равновесия.
Для объяснения перечисленных общих свойств тел было бы достаточно одного перехода отталкивания в притяжение с одной только точкой равновесия; прочие же переходы рассчитаны, по-видимому, преимущественно на объяснение ньютоновских приступов световых лучей, равно как и самое строение физических точек приспособлено к тому, чтобы сделать наглядным прохождение сквозь тела световых частиц. Когда тела состоят из физических точек, то световая материя легко может проходить через них, если только ее момент движения достаточно велик для преодоления сил, в сферу действия которых попадают световые частицы. Так, при большой скорости движения света последний может проходить через тела, не приводя их частичек в движение; при меньшей скорости он уже будет сообщать им заметное движение, хотя сам может еще и не быть остановлен; если же движение света еще более медленно, то световая материя, войдя в тело, может задержаться в нем полностью.
Если отвлечься от многочисленных переходов атомных сил и сохранить только начальную отталкивательную и конечную притягательную силы, то система Босковича оказывается очень похожей на новейшую атомистику до того места, где она переходит и молекулярную теорию. Поэтому Босковича часто называют прямым творцом атомистики, принимающей существование атомов, обладающих активными силами. Во всяком случае, он наиболее плодотворно привел в связь ньютоновские открытия с прежней атомистикой и наметил пути, по которым наука движется и в настоящее время. Тем не менее, заслуги Босковича не были по достоинству оценены особенно в Германии, где ее затемнила теория Канта, который в своих метафизических началах естествознания 30-ю годами позже Босковича присвоил материи две силы, отталкивательную и притягательную, действовавшие вместе как единая сила Босковича. В Англии и Франции система последнего встретила несколько большее сочувствие и признание, но тоже очень медленно и в ограниченном объеме. Делюк («Idées sur la méteorologie») восстает против гипотезы Босковича на том основании, что сила без вещества, на которое она действует, есть лишь пустое выражение. Так же критически относится к ней и англичанин Прайс. Пристлей («Hystory of optics»), наоборот, признает себя открыто приверженцем теории Босковича и полагает, что при ее посредстве всего легче устраняются трудности теории истечения света. Робайсон излагает в своей «System of mechanical philosophy» (Эдинбург, 1882) теорию Босковича и утверждает, что она должна, во всяком случае, быть очень близкой к истинной теории. В теории Фарадея атомы, как и у Босковича, являются просто центрами сил. Наконец, Фехнер в своей работе «Ueber die physikalische und philosophische Atomenlehre» (Лейпциг, 1855, 2 изд., 1864) останавливается на теории Босковича и цитирует его работу.
Самым видным противником какого бы то ни было непосредственного действия на расстоянии и приверженцем всеобъемлющей теории эфира является ЛЕОНАРД ЭЙЛЕР. Уже с половины 40-х годов XVIII столетия он выступает в своих оптических сочинениях против теории истечения, а в работах о строении материи против actio in distans. И те, и другие явления он пытается объяснить эфиром, наполняющим всю вселенную. Позднее он применил свою гипотезу эфира к выводу законов электричества и магнетизма и развил ее в общую теорию эфира. Воззрения Эйлера изложены им в его «Lettres a une princesse d'Allemagne sur quelques sujets de physique et de philosophie» (Петербург, 1767—1772, 3 ч.), представляющих очень любопытное популярное сочинение по физике, которое и теперь читается с интересом. Письма эти были датированы 1760 и 1761 гг., они появились в нескольких изданиях и были переведены на немецкий язык Крисом (Лейпциг, 1792—1794) снабдившим их многочисленными примечаниями, направленными преимущественно против отступления Эйлера от Ньютона. Мы считаем полезным изложить более подробно теорию Эйлера, так как, независимо от ее достоинств, нам представляется крайне интересным ознакомить читателя с воззрениями гениального человека, стоявшими в резком противоречии с общепринятыми взглядами тогдашних физиков.
Прежде всего, Эйлер восстает против теории истечения света. «Уже на первый взгляд это воззрение (т. е. теория истечения) должно представляться и смелым и странным, потому что, если солнце испускает непрерывно и во все стороны потоки светового вещества, и притом с такой громадной скоростью, то следовало бы ожидать, что оно должно скоро истощиться, или, по крайней мере, претерпеть заметные изменения в течение стольких столетий; наблюдения же показывают как раз обратное». «И напрасно стараются придать световому веществу наибольшую мыслимую тонкость; от этого ничего не выигрывается: система все-таки остается непостижимой. Нельзя сказать и того, что лучи истекают не из всех мест и не во все стороны; потому что, где бы ни поместиться, отовсюду видно все солнце. «К этому присоединяется еще другое, худшее обстоятельство, не менее важное по существу дела, заключающееся в том, что не одно солнце, но и все прочие звезды распространяют световые лучи, и последние по необходимости должны встречаться друг с другом. С какой силой должны были бы они сталкиваться? и настолько должно было бы изменяться их направление?». «Далее, если рассмотреть прозрачные тела, через которые солнечные лучи проходят без помехи, последователи этой системы вынуждены принять, что поры таких тел идут по прямым линиям, и именно от любой точки поверхности во все стороны; ведь нельзя себе представить линии, по которой не шел бы световой луч и не шел бы с непостижимой скоростью, не наталкиваясь на препятствия. До какой же степени такие тела при их видимой плотности должны бы были быть пронизаны отверстиями!» «Думаю, что эти трудности, взятые вместе, убедят Ваше высочество, что теория истечения не имеет под собой действительной почвы в природе; вместе с тем, Ваше высочество удивится, как могла подобная система быть придумана столь великим человеком и быть признана столькими просвещенными философами. Впрочем, уже Цицерон заметил, что нет такой странности, которую не взялись бы утверждать философы. Лично я слишком мало философ, чтобы присоединиться к этому мнению». Ньютон отвергал мысль, что вселенная заполнена эфиром, так как при этих условиях планеты, по его мнению, не могли бы двигаться столь беспрепятственно, как они двигаются на самом деле; но «Ваше высочество легко поймет, что пространство, в котором движутся эти тела, вместо того чтобы оставаться пустым, будет наполнено световыми лучами, которые, исходя не только из солнца, но из других светил, распространяются в нем непрерывно, со всех сторон и во все стороны и с величайшей скоростью. Следовательно, небесные тела будут двигаться уже не в пустоте, и будут встречать повсеместно вещество световых лучей, которое, находясь в движении с ужасающей скоростью, необходимо должно затруднять течение светил в большей степени, чем если бы оно было в полном покое. Поэтому если Ньютон опасался, как бы движение планет не было нарушено присутствием столь тонкой материи, как та, которую принимал Декарт, то нужно признать, что сам он прибег к очень странному средству, противоречащему его собственным намерениям, так как при нем движение планет должно нарушаться еще значительно сильнее».
Эфир есть вещество, подобное воздуху, «но значительно более тонкое и упругое, чем обыкновенный воздух. Так как мы уже видели, что именно этим свойством воздух обязан своей способностью воспринимать сотрясения и колебания звучащих тел и передавать их во все стороны, как мы это видим на распространении звука, то естественно думать, что и эфир при подобных же условиях будет подобным же образом воспринимать колебания и распространять их на несравненно большие расстояния». Действие этих колебаний есть свет. При этом «солнце ничего не теряет из своего вещества, хотя и освещает своими лучами весь мир. Его свет производится определенным движением или сильным сотрясением собственных частичек, которое, будучи передано соседнему эфиру, распространяется во все стороны на громадные расстояния, совершенно так же, как колокол при ударе передает собственные сотрясения воздуху». Мы знаем, что «если бы плотность воздуха уменьшилась, скорость звука увеличилась бы, точно так же, если бы упругость воздуха стала больше, то скорость звука возросла бы». «Представим себе теперь, что плотность воздуха уменьшилась бы настолько, что она стала равной плотности эфира, а упругость, наоборот, повышаясь, достигла бы упругости эфира, тогда, конечно, никто бы не удивился, если бы скорость звука возросла в несколько тысяч раз против действительности». «Таким образом необычайная скорость света перестает быть парадоксом, а наоборот, согласуется с нашими основными положениями, а сходство света со звуком идет так далеко, что мы можем с уверенностью утверждать, что если бы воздух был столь же тонок и упруг, как эфир, то скорость звука была бы совершенно та же, что и скорость световых лучей». Темное тело освещается падающими на него лучами не оттого, что оно отбрасывает световое вещество, а вследствие того, что частицы на его поверхности приводятся волнами эфира в колебание, а последние в свою очередь сообщаются соседнему эфиру, все равно, как натянутые струны приводятся в колебания набегающими звуковыми волнами и начинают звучать сами. Эти положения приводят Эйлера, прежде всего, к объяснению цветов при помощи теории колебания — к объяснению, которого до того еще совершенно не существовало. «Наше незнание истинной природы цветов издавна вызывало много споров между философами. Каждый старался отличиться своим особым мнением по этому предмету». «Всякий простой цвет (в отличие от смешанного) происходит от определенного числа колебаний, совершающихся в известное время; так, определенное число колебаний в секунду дает красный цвет, другое — желтый, третье — зеленый, опять иное — голубой, иное — фиолетовый; все эти цвета простые, какими мы видим их в радуге. Следует представлять себе, что малейшие частицы на поверхности тела находятся, подобно струнам музыкального инструмента, в известном напряжении, зависящем от их массы и упругости; поэтому, когда их надлежащим образом касаются, они приходят в колебательное движение, более или менее частое, в зависимости от напряжения. Если, значит, частицы тела имеют такое напряжение, что при сотрясении они дают такое число колебаний в секунду, которое соответствует, например, красному цвету, то такое тело я называю красным». С таким же основанием можно называть красными и самые лучи, имеющие то же число колебаний; другими словами, если такие лучи падают на нерв глаза, то человек получает ощущение красного цвета. Правда, мы еще не умеем определять число колебаний каждого цвета в отдельности и не знаем даже, каким цветам соответствует большее или меньшее число колебаний, какие цвета соответствуют более низким или высоким тонам. Но достаточно знать и то, что всякий цвет имеет свое определенное число колебаний». «Чтобы осветить тело определенным цветом, необходимы лучи именно этого цвета, так как всякие другие лучи неспособны принести в движение частицы тела». «Лучи солнца, восковой или простой свечи освещают все тела одинаковым образом, из чего заключают, что солнечные лучи заключают в себе все цвета, хотя с виду они кажутся желтоватыми». «Отсюда же заключают, что белый свет вовсе не простой, а состоит из смешения всех простых цветов».
К вопросу о причине тяжести Эйлер подходит уже после того, как вывел и определенно подтвердил все законы притяжения Ньютона. «До сих пор я старался сообщить Вашему высочеству общее понятие о тех силах, от которых зависят самые крупные явления в мире, и о силах, которые управляют движениями небесных сил». «Теперь же естественно возникает вопрос, какова же причина этого всеобщего притяжения, или отчего тела взаимно притягиваются?» «Я не стану утомлять внимания Вашего высочества перечислением всех придуманных на этот счет гипотез и ограничусь общим замечанием, что вообще мнения физиков и философов по этому вопросу распадаются на две главных категории». Одни утверждают, что притяжение составляет существенное внутреннее свойство материи, а другие, — что оно осуществляется через «посредство невидимой тонкой материи. Первого мнения придерживаются преимущественно английские физики, опирающиеся при этом на авторитет Ньютона. «Но я уже много раз напоминал, что такое мнение приписывается ему (Ньютону) неправильно». «Второе же мнение, согласно которому тяжесть есть действие тонкой материи, особенно отстаивали, как сказано, Декарт и Гюйгенс. И действительно, естественнее думать, что два значительно удаленных друг от друга тела сближаются при посредстве какого-нибудь вещества, чем предполагать, что они притягиваются внутренними силами без посредства промежуточной среды. По крайней мере, только первое мнение согласуется с прочими нашими опытными данными».
«Представим себе на минуту, что творец, прежде чем создать вселенную, сотворил два тела на большом расстоянии друг от друга и что, кроме этих тел, ничего другого не было. Возможно ли, чтобы они сблизились между собой? Каким образом могло бы существование одного тела стать заметным для другого при их огромном удалении? Каким образом могло бы одно тело получить склонность приблизиться к другому?». «Поэтому мнение ученых, которые объясняют тяжесть действием тонкого вещества, окружающего все тела, представляется более правильным. Но это и все, что можно утверждать. Выдавать эту гипотезу за истину нельзя; на ее пути еще много трудностей». Здесь Эйлер держится еще нейтрально; но в другом месте своих писем он высказывается уже более определенно: «Тем не менее, мысль, что притягательная сила есть существенное свойство материи, представляется мне связанной с такими трудностями, что лично я, по крайней мере, не могу согласиться с ней. Много вероятнее кажется мне другое мнение, согласно которому притяжение есть действие тонкой материи, заполняющей все небесное пространство. Правда, вид и способ движения этой материи, равно как способ ее действия на тела, еще скрыты от нас; но ведь есть еще много других важных предметов, относительно которых мы вынуждены сознаться в не меньшем незнании». В сочинении «De magnete» и еще подробнее в трактате «Anleitung zur Naturlehre», найденном в Петербурге лишь в 1844 г., он пытается вывести притяжение двух тел в небесном пространстве непосредственно из давления и движения эфира, наполняющего всю вселенную; но и здесь он не доходит до окончательной цели и останавливается на недоказанном положении, что всякое небесное тело должно в своей непосредственной близости изменять упругость эфира.
С большей уверенностью и определенностью прилагает Эйлер свою теорию к объяснению электрических и магнитных явлений. «Большинство физиков сознаются в неведении, как только им приходится объяснять эти явления. Крайнее разнообразие явлений электричества, увеличивающееся ежедневно новыми открытиями, по-видимому, настолько их смущает, что они теряют всякую надежду доискаться когда-либо до их истинной причины». «Едва ли подлежит сомнению, что главный источник электрических явлений нужно искать в тонкой жидкой материи; но придумывать ее специально для этой цели нам (подобно другим физикам) не приходится. Эфир — эта тонкая материя, действительное существование которой я уже ранее доказал Вашему высочеству, — совершенно достаточен для того, чтобы естественнейшим образом объяснить самые поразительные из электрических явлений». «Так как эфир есть вещество, схожее с воздухом, но несравненно более тонкое и упругое, то он может находиться в покое лишь при условии, если его упругость повсюду одинакова. Едва он становится более упругим в одном месте, чем в другом, как тотчас же он начинает расширяться и сжимать соседние части, пока в обоих местах не восстановится одинаковая степень упругости». «Поэтому, если эфир не находится в равновесии, то с ним происходит то же, что происходит с воздухом, когда его равновесие нарушается; от мест большой упругости он распространяется к местам меньшей упругости, но распространяется со значительно большей скоростью, чем воздух, так как его тонкость и упругость во много раз выше». Эфир распространен повсюду, не исключая и самых малых пор в телах, а последние бывают двух родов, большие и малые. Большие поры, по которым эфир может свободно циркулировать, называются открытыми порами; те же, которые пропускают эфир лишь с трудом и задерживают его, называются замкнутыми порами». «Большинство тел имеют поры средней величины, и мы будем их считать более или менее замкнутыми, более или менее открытыми». Если бы поры во всех телах были совершенно замкнутые, то изменить упругость заключенного в них эфира было бы невозможно; «то же самое было бы и в том случае, если бы поры всех тел были совершенно открытые». Но так как поры тел не являются ни вполне замкнутыми, ни вполне открытыми, то нарушить равновесие заключенного в них эфира возможно; и когда это случается, то за этим непременно следует восстановление равновесия, но последнее происходит не мгновенно, а в известной постепенности. «В воздухе, которым мы дышим, поры почти совсем закрытые, поэтому эфиру столь же трудно проникнуть в воздух, как и выйти наружу тому эфиру, который туда проник. Поэтому, когда эфир воздуха не находится в равновесии с эфиром других тел, то восстановление равновесия происходит не только не мгновенно, но с известным трудом. Это, однако, касается лишь сухого воздуха, потому что природа влажности совсем иная». «Все зависит (в электричестве) от неравной упругости эфира в порах тел». «Когда эфир переходит из тела, где он более сжат, в другое, то находящийся между телами воздух сильно препятствует такому переходу, так как его поры почти замкнуты. Но, в конце концов, эфир, при его крайней тонкости, все-таки проникает через воздух, если только напор его не очень слаб и расстояние между тепами не очень велико. Так как, однако, переход связан с известным усилием или напряжением, то происходит то же, что мы наблюдаем с воздухом, когда он с силою продавливается через малое отверстие,— слышится шипение». «Подобно тому, как сотрясение воздуха производит звук, соответствующее сотрясение эфира дает свет; поэтому всякий раз, как эфир переходит из одного тела в другое, при его прохождении через воздух должен появляться свет то в виде искры, то в «виде луча, смотря по тому, переходит ли эфира мало или много». «Тело может наэлектризоваться двояко, в зависимости от того, обладает ли заключенный в его порах эфир большею или меньшею упругостью по сравнению с окружающим эфиром. Отсюда возникают два вида электричества: тот, при котором эфир более упруг или сильнее сжат, называется положительным электричеством; другое, где эфир менее упруг или более редок, — отрицательным электричеством». «Самое и легкое и известное средство вызвать электричество в телах это — трение. В янтаре и сургуче поры довольно замкнутые, а в шерсти они довольно открытые. При трении поры обоих тел сжимаются, и заключенный в них эфир получает большую упругость. Смотря по тому, сжимаются ли поры шерсти легче или труднее, часть эфира переходит из нее в янтарь, или, наоборот, из янтаря в шерсть. В первом случае янтарь делается положительным, во втором отрицательным, и, так как его поры почти замкнутые, состояние это удерживается в нем некоторое время; наоборот, шерсть благодаря ее открытым порам возвращается тотчас же в естественное состояние». Если взять наэлектризованную отрицательно палочку сургуча, то ослабленная упругость ее эфира не может выровняться с эфиром воздуха, так как поры в последнем замкнутые; но если к палочке приблизить легкое тело с открытыми порами, то часть эфира из последнего проникает через воздух к сургучу; благодаря этому давление воздуха между легким телом и сургучом понижается, и легкое тело давлением воздуха с противоположной стороны приближается к сургучу. Хотя поры в воздухе замкнутые, но вблизи наэлектризованных тел воздух все-таки изменяется, теряя или воспринимая эфир; эта часть воздуха составляет электрическую атмосферу наэлектризованного тела. Таким образом электрические явления происходят оттого, что эфир в одном теле или сжимается или разряжается более чем в другом. «Переходу сжатого эфира из одного тела в другое воздух с его замкнутыми порами оказывает сильное сопротивление; при этом он приходит в сотрясение или колебательное движение, производящее, как мы видели выше, свет. Чем сильнее такое движение, тем ярче свет; он может даже усиливаться до того, что может зажечь или сжечь горючие тела. В то время как эфир со столь большой силой проникает через воздух, мельчайшие частицы последнего тоже приходят в колебательное движение, которое, как известно, производит звук». «Так как, далее, тело человека и животных, в его малейших порах, наполнено эфиром — особенно деятельность нервов зависит, по-видимому, от заключенного в них эфира, — то понятно, что ни человек, ни животное не могут быть нечувствительны к электричеству. Как только заключенный в них эфир приходит в сильное движение, действие его должно резко обнаружиться и может оказаться, смотря по обстоятельствам, целительным или вредным». Все, что изменяет величину пор тела и вместе с тем изменяет упругость его эфира, может стать источником электричества. Поэтому неудивительно, что некоторые тела, как турмалин, обнаруживают электричество при простом нагревании; или, что летом в сильную жару восходящие в холодные слои облака наэлектризовываются столь же сильно, что должны разражаться грозой.
Таким образом, подобно свету и тяготению, Эйлер объясняет эфиром и все электрические явления; для одних только магнитных явлений эта тонкая жидкость оказывается недостаточной. «Положение, в котором располагаются вокруг магнита железные опилки, указывает, несомненно, на присутствие какой-то тонкой невидимой материи, которая, протекая по железным частицам, ставит их в известное положение. Столь же ясно, что эта же самая материя не только проходит через магнит от полюса к полюсу, но, выходя через один полюс наружу, возвращается через другой снова в магнит; она, следовательно, находится в постоянном движении, без сомнения, очень быстром и образующем вокруг магнита род вихря. Сущность магнита заключается, таким образом, в непрерывном вихре, и этим он отличается от всех прочих тел». «Его тонкая материя должна пронизывать все тела, за исключением железа, так же легко, как она пронизывает воздух и даже чистый эфир, потому что магнитные опыты одинаково легко удаются и в пустоте, под колоколом воздушного насоса. Она, следовательно, отлична от эфира и должна быть даже значительно тоньше его. Она окружает всю землю, образуя вокруг нее общий вихрь, и проникает в нее так же легко, как в прочие тела, за исключением железа и магнита; поэтому последние можно было бы назвать магнитными телами в отличие от прочих». «Итак, я представляю себе магнит и железо имеющими столь малые поры, что в них не может проникнуть даже эфир и входит лишь одна магнитная жидкость; входя в поры, последняя отделяется от эфира, так сказать, отфильтровывается от него. По этой причине магнитная жидкость в чистом виде находится только в порах магнита, а во всех прочих местах она распространена по эфиру и смешана с ним». «Следовательно, в магните, кроме пор, наполненных, как в прочих телах, эфиром, есть еще несравненно более мелкие поры, в которые проникает только одна магнитная материя; последние, сообщаясь друг с другом, образуют тонкие трубки или каналы, по которым магнитная материя течет, но всегда в одном направлении, не имея возможности двигаться в противоположном».
Таким образом в объяснении магнитных явлений Эйлер почти полностью вернулся к картезианским воззрениям и с точки зрения последних объясняет все известные в его время явления магнетизма.
В эйлеровской теории эфира много заманчивого как раз для современного физика. Несмотря на явные пробелы и даже явно невероятные моменты в объяснении электрических явлений, несмотря на неудачное выделение из них магнетизма, несмотря на пробелы в объяснении эфиром тяготения и прочие недостатки, эта теория представляет высокий интерес в том отношении, что она сводит на эфир как на общую причину механическую силу, свет, теплоту и электричество. Закон превращения сил, экспериментально установленный новейшей физикой, но все еще не получивший общего истолкования, во всяком случае указывает на существование общего корня всех сил. Поэтому Эйлер заслуживает нашей благодарности и высочайшего нашего изумления за то, что он уже более столетия назад не только указал на такую общую причину, но отчасти и вывел из нее явления различных категорий. Если бы даже его выводы были еще менее правдоподобны, чем они были в действительности, то за ними все-таки осталась бы та заслуга, что при всей разрозненности физических исследований они указали на единство всех сил природы.
К сожалению, современники Эйлера не сумели оценить этой заслуги; созидающие факторы тогдашней физики, экспериментальное искусство и математика, были целиком заняты констатированием явлений и установлением численных соотношений; умозрения о сущности явлений, легко способные привести на ложные пути, считались скорее вредными, чем полезными, скорее затемняющими, чем уясняющими. В результате даже авторитет Эйлера не смог побудить современников глубже вникнуть в общие причины явлений и даже наилучше разработанная часть теории, именно, волновая теория света, нисколько не могла поколебать господствовавшей тогда теории истечения. Очень характерно воззрения своего времени выражает в своей «Истории оптики» Пристлей. «Несмотря на решительность доводов против мнения, будто свет заключается в колебаниях жидкой среды, особенно с тех пор, как Ньютон в своих «Началах», по-видимому, доказал невозможность подобной гипотезы, ее, однако, до сих пор придерживаются некоторые натуралисты, преимущественно некоторые из знаменитых иностранцев; да и между англичанами были такие, которых лишь с большим трудом удалось убедить отказаться от нее. Никто, однако, не оспаривал ньютоновскую теорию с таким усердием и энергией, как знаменитый математик г. Эйлер, вызвавший снова к жизни и защищавший гипотезу Гюйгенса, согласно которой свет заключается в колебаниях, распространяющихся от светящихся тел в тонкой эфирной среде. Не решаясь задерживать внимания читателя чистыми гипотезами, я ограничусь кратким изложением возражений г. Эйлера против учения Ньютона».
Динамика при исследовании движения на первых порах не принимала во внимание формы тел и изучала исключительно движения неделимых точек; но по мере завершения этих исследований в круг внимания стали включать и вопрос об общем движении целых систем точек или тел. Начали с исследования движения неизменных систем или абсолютно твердых тел, но уже и здесь встретились со значительно большими трудностями, чем при прежних механических задачах, потому что анализ должен был обнять не только прямолинейно поступательное, но и вращательное движение, равно как и различные сочетания этих обоих видов движения. Когда тело под влиянием толчка продолжает сообщенное ему движение, оно, как общее правило, не только перемещается в пространстве поступательно, но обыкновенно еще и вращается при этом около постоянных или переменных осей. Разработкой вопроса о физическом маятнике Гюйгенс положил начало исследований в этой области, и хотя дело шло только об одном вращении около постоянной оси без перемещения, задача даже и в этом виде оказалась, как мы видели, для того времени очень трудной. Тем не менее, отказаться от подобных задач механика уже не могла, их ставила, прежде всего, астрономия. Пока планеты считались совершенными шарами, их еще можно было в небесной механике рассматривать как точки, в которых собрана вся масса планет; но с тех пор как были открыты неправильности их формы, например сжатие, возник вопрос о влиянии прежде всего этого сжатия на вращение планет; можно было надеяться этим путем объяснить некоторые наблюденные изменения движения планет, как, например, явления прецессии и т. п. Уже в 1737 г. Даниил Бернулли и Эйлер показали, что под влиянием косого удара движение тела следует двум законам: 1) центр тяжести тела движется так, как если бы удар был прямо направлен к центру, 2) помимо этого движения тело вращается около своего центра тяжести так, как если бы последний был неподвижен. После этого встал вопрос о дальнейшей разработке теории подобных вращений около точки. Вращение около центра тяжести может быть вращением около постоянной оси, проходящей через центр, но оно может быть и более сложным, — вращением, при котором положение мгновенных осей вращения непрерывно изменяется. Но, во всяком случае, вращение подобно поступательному движению, может быть спроектировано на три оси, или, что то же, оно может быть представлено одновременным движением около трех взаимно перпендикулярных осей, проходящих через центр тяжести. Для всякого тела существует, в зависимости от его формы, одно определенное положение осей, при котором такое изображение движения оказывается наиболее простым; эти оси имеют то свойство, что тело вращается вокруг них свободно, не проявляя наклонности изменять оси вращения; поэтому эти оси называются свободными или главными осями тела. Однако три главных оси тела ведут себя не вполне тождественно. Если тело вращается около оси, не совпадающей с одной из главных осей, но лежащей к ней бесконечно близко, то ось вращения либо постоянно удаляется от этой главной оси, либо остается к ней бесконечно близкой; в первом случае главные оси называются неустойчивыми, во втором — устойчивыми осями вращения. Если на тело, вращающееся около устойчивой оси, действуют внешние силы, то хотя они и непрерывно изменяют положение главной оси, но все это изменение — в виду того, что тело стремится сохранить свою ось вращения — сводится к вращению последней по конической поверхности вокруг устойчивой оси вращения. Примером могут служить движения наклонно поставленного волчка и вращение планет около устойчивой главной оси, наклонной к плоскости их орбиты. Эту теорию главных осей вращения в общем случае, равно как представление движений вокруг произвольных осей в частных случаях Эйлер капитально разработал «в своем главном сочинении «Theoria motus corporum solidarum seu rigidorum» (Росток, 1765; новое изд. 1790 г.). Исходя из специально астрономических точек зрения, д'Аламбер («Opuscules mathématiques». 1761—1768) и Лагранж («Recherche sur la libration de la lune», сочинение, премированное Парижской академией в 1764 г.) пришли к подобным же результатам.
Иоганн Андреас Зегнер (1704—1777, сначала врач на родине, в Венгрии, потом в 1733 г. профессор философии в Йене, с 1735 по 1755 г. профессор математики и физики в Гёттинтене и, наконец, вплоть до своей смерти — профессор в Галле) уже ранее того открыл три главных оси вращения и изложил первые соображения по этому вопросу в 1755 г. в сочинении «Specimen Theoriae turbinum».
Вообще Зегнер был физик, не бесплодно поработавший в различных отраслях нашей науки и давший ряд плодотворных идей. В сочинении «De raritate luminis», (Геттинген, 1740) он пытался очень остроумно защитить теорию истечения против одного возражения, которое позднее Эйлер, тем не менее, снова привел против нее. Указывали, что трудно понять, каким образом могут, не мешая друг другу, потоки световых лучей непрерывно проникать через узкие отверстия в темную комнату. Зегнер указывает, что световому лучу нет надобности быть непрерывным, подобно струе воды. Стоит только принять, что глаз удерживает впечатление в течение шести терций времени, тогда световые атомы в луче могли бы следовать друг за другом с промежутками времени в 6 терций или с пространственными промежутками почти в пять земных радиусов; тогда масса лучей получила бы достаточно времени для прохождения через узкие отверстия. Но, конечно, при этих условиях возможность взаимной помехи стала бы только реже, но она не была бы устранена полностью. Более важное значение имеют две работы того же автора 1750 г.: «Machinae cujusdam hydraulicae theoria» и «Computatio formae atque virium machinae hydraulicae nuper descriptae», в которых Зегнер впервые описывает названное его именем водяное колесо или турбину и излагает ее теорию. Он предполагал применять свое колесо к мельнице и дал соответствующие чертежи и описание; но оно стало больше известно позднее по конструкции англичанина Баркера под названием «мельницы без колеса и шестерни».
Хотя постоянство точек кипения и замерзания жидкостей, равно как важность этих явлений для устройства термометров были замечены давно, но теоретическая сторона этих явлений оставалась почти не затронутой. Лишь в промежуток времени 1755—1760 г. ДЕЛЮК и д-р БЛЭК подробно исследовали эти явления и даже произвели некоторые измерения расхода тепла при плавлении и кипении.
Жан Андре Делюк родился 8 февраля 1727 г. в Женеве, где его отец был часовщиком, но также был известен как духовный и политический писатель. Жан Андре сначала тоже принял активное участие в политической борьбе родного города и в 1770 г. стал членом верховного совета. Но вскоре затем он вместе с братом покинул Женеву и занялся физикой и геологией. После многочисленных путешествий он получил место чтеца при английской королеве Каролине, а с 1798 г. стал профессором физики в Гёттингене. Однако он не остался здесь жить постоянно, а жил попеременно в Лондоне, Берлине, Ганновере и Брауншвейге. В 1808 г. он вернулся окончательно в Англию и умер 17 ноября 1817 г. в Виндзоре.

Джозеф Блэк родился в 1728 г. около Бордо от шотландских родителей, которые послали его для образования сначала в Белфаст, потом в Глазго и, наконец, в Эдинбург. Уже в его докторской диссертации «De acido a cibis orto et de magnesia» (Эдинбург, 1754) и еще более в последовавшем за ним вскоре сочинении «Experiments on magnesia alba, quicklime and other alcaline substances» (Эдинбург, 1775) заключается важное химическое открытие, что едкие щелочи и щелочные земли смягчаются от соединения с особым видом воздуха, который Блэк назвал «fixed air». В 1756 г. он стал профессором химии в Глазго, а с 1766 г. — в Эдинбурге. Здесь он и умер 26 ноября 1799 г.
В течение зимы 1754—1755 г. Делюк замораживал воду, оставляя в ней термометр. Когда сосуды с замерзшей водой ставились на огонь, температура их повышалась лишь до тех пор, пока лед не начинал таять; затем вся поступающая теплота поглощалась, и термометр оставался на 0°, пока не исчезал весь лед. Еще более точные опыты произвел около того же времени Блэк, изложив их в 1757 г. на своих лекциях по химии в Глазго, а затем в Эдинбурге. Профессор Рихман в Петербурге указал («Nov. Comment. Petrop.», т. 1), что при смешении различно нагретых масс одной и той же жидкости температуры их выравниваются соответственно их высоте и соответственно количествам жидкости; другими словами, что температура смеси получается по формуле:

На этом основании равные количества одного и того же вещества должны при смешении давать среднюю температуру; Блэк же нашел, что после погружения в воду при 172° Фаренгейта куска льда равного ей веса при 32° Фаренгейта получается смесь, температура которой не 102°, а 32°, т. е. температура льда; но зато весь лед превращается в воду. В своих «Lectures on th elements of chemistry» (изданных после его смерти Джоном Робайсоном в 1803 г. в двух частях) он говорит: «Тающий лед принимает в себя много тепла, но все действие последнего ограничивается превращением льда в воду, которая нисколько не согревается против бывшей температуры льда. Следовательно, некоторое количество тепла или теплорода, переходящего в тающий лед, идет на превращение льда в жидкость, без какого-либо заметного повышения температуры последней. При этом тепло как бы поглощается водою или скрывается в ней таким образом, что термометр не обнаруживает его присутствия». Указывая далее на то, что как при плавлении льда, так и при кипении воды некоторое количество тепла потребляется без повышения температуры воды, он применяет здесь выражение «скрытая теплота».
Делюк, как и Блэк, не опубликовали своих наблюдений тотчас же после того, как они были сделаны; Делюк сообщил о них в своих «Recherches sur les modifications de l'atmosphére» (Париж, 1772), а опыты Блэка стали известны лишь в 1779 г., благодаря Крауфорду. Одновременно Вильке с еще большим успехом занимался вопросом о распределении тепла между различными телами и опубликовал свои результаты в 1772 г. в трудах Королевского шведского научного общества 1. Смешивая теплую и ледяную воду, он нашел, что тепло распределяется по формуле Рихманна; но когда он плавил в теплой воде снег, это правило оказалось неприменимым. При равных количествах снега и воды, в тот момент, когда весь снег превращался в воду, всегда исчезали 72° тепла (по Цельсию). При неравных количествах снега и воды потеря тепла была соответственная, так что для температуры смеси (Т) он мог дать следующую общую формулу  , где m обозначает количество воды, t — ее температуру, a m' — количество снега, имеющего температуру 0°. Эти наблюдения побудили Вильке исследовать, не потребляют ли различные тела при равном нагревании различных количеств теплоты. Нагрев с этой целью испытуемое тело, он погружал его в ледяную воду и определял повышение ее температуры. Вычислив затем по правилу Рихманна то количество воды, согретое до температуры испытуемого тела, которое потребовалось бы для получения наблюденного эффекта, он находил отношение между удельной теплотой воды и удельной теплотой испытуемого вещества или же прямо последнюю величину, так как удельную теплоту воды он принял за единицу.
, где m обозначает количество воды, t — ее температуру, a m' — количество снега, имеющего температуру 0°. Эти наблюдения побудили Вильке исследовать, не потребляют ли различные тела при равном нагревании различных количеств теплоты. Нагрев с этой целью испытуемое тело, он погружал его в ледяную воду и определял повышение ее температуры. Вычислив затем по правилу Рихманна то количество воды, согретое до температуры испытуемого тела, которое потребовалось бы для получения наблюденного эффекта, он находил отношение между удельной теплотой воды и удельной теплотой испытуемого вещества или же прямо последнюю величину, так как удельную теплоту воды он принял за единицу.
После этого исследования удельной теплоты тел получили широкое распространение, но при этом большею частью пользовались только что описанным способом смешения. Этот же способ применял и Блэк; но особенно много тщательных опытов такого рода изложил Крауфорд (1745—1795, врач в Лондоне) в сочинении «Experiences and observations on animal heat and the inflammation of combustible bodies» (Лондон, 1779).
Однако этот способ заключал в себе значительные источники ошибок вследствие потери тепла на нагревание сосуда и вследствие излучения; поэтому с 1777 г. Лавуазье и Лаплас стали употреблять общеизвестный ледяной калориметр, при котором удельная теплота тел определяется по количеству растаявшего льда. Но и здесь обнаружились трудности; особенно трудно было точно определить количество воды, образовавшейся из растаявшего льда. По этой причине Вильке даже отказался от мысли определить удельную теплоту по этому способу. Однако в последующее время, как физики, так и химики много работали над изобретением новых калориметров или, по крайней мере, над усовершенствованием прежних.
Эти интересные новые наблюдения дали новую пищу и для старого спора о природе теплоты. Теории вибраций, сторонниками которой были Бэкон и Декарт, уже раньше противостояла теория особого теплового вещества. Эпоха после Ньютона была вообще неблагоприятна для всякого рода теорий колебаний, а тут появились еще новые открытия, сделавшие, по-видимому, необходимым принятие особого теплового вещества. Вильке считает теплоту тонкой материей, частицы которой, взаимно отталкиваясь, большинством тел притягиваются в различной степени. Всякое тело содержит в себе свойственное ему количество теплового вещества, изменяющееся, однако, в зависимости от состояния тела. Когда воздух расширяется, он получает способность заимствовать теплоту от окружающих тел, отсюда — охлаждение при расширении воздуха и, наоборот, нагревание окружающих тел при его сжатии. Решение этой старой загадки, не поддававшейся до того времени объяснению, Вильке с полным основанием считал новым сильным аргументом в пользу существования теплового вещества, однако, несмотря на то, что и теория флогистона тогдашних химиков со своей стороны говорила в пользу того же предположения, но все же очень медленно получало широкое признание.
Еще сильнее была борьба по поводу другого вопроса, касающегося теории тепла. С тех пор, как начали отличать водяные пары от воздуха, возник вопрос, какая причина заставляет водяные пары подниматься в воздухе. Мы уже видели, что даже такие ученые, как Галлей, Цергам и Вольф, держались странной теории пузырьков; ее же придерживался Мушенбрек, и она даже до настоящего времени имела отдельных сторонников. В 1743 г. этот вопрос был поставлен Бордоской академией на соискание премии, и в результате, странным образом, премии были присуждены за две работы, содержавшие совершенно противоположные взгляды на этот вопрос: в одной из них, принадлежавшей уже упомянутому выше Христ. Готлибу Краценштейну (1723—1759, врач в Галле, профессор физики в Петербурге, а потом в Копенгагене), были взяты под защиту полые пузырьки и даже была определена толщина их стенок (в 1:50000 дюйма); в другой, принадлежавшей Гамбергеру, поднятие водяных частиц объяснялось их прилипанием к воздуху. В позднейшем сочинении того же автора «Elementa physices» мысль эта превратилась в теорию растворения воды в воздухе. Шарль Леруа (1726—1779) присоединился к этой теории и горячо защищал ее в мемуарах Парижской академии 1751 г., указывая на аналогию смеси паров воды и воздуха с водным раствором соли. Ему же принадлежит наблюдение и выражение, что воздух может быть насыщен водяными парами и что насыщающее количество, как и в соляных растворах, зависит от температуры. Против этой теории растворения возражал швед Валериус Эриксон (1709—1785 г., в 1732 г. адъюнкт при медицинском факультете в Лунде, потом в Стокгольме, в 1750 г. профессор химии в Упсале; с 1766 г. оставил преподавание), обративший внимание на то, что вода испаряется и в пустоте. Интересно, что последнее открытие не убило окончательно теории растворения; последняя имела приверженцев до 1800 г., и даже известный Соссюр боролся за нее долгое время. Впрочем, теперь спор шел не столько о форме видимых паров, тумана и облаков (для которой обе стороны допускали теорию пузырьков), сколько о происхождении невидимых паров, водяного газа. Делюк, лидер противной стороны, исходил в своем сочинении «Recherches sur les modifications de l'atmosphére» из воззрения Ньютона, объяснявшего испарение отталкивательною силою тепла. Он считал теплоту веществом несравненно более легким по весу, чем воздух, или даже вовсе невесомым, но способным соединяться с весомой материей, подобно всякому веществу. Благодаря этому восхождение водяных частиц объяснялось очень просто соединением их с тепловым веществом; и так как последнему приписывались отталкивательные силы, то тем же соединением объяснялось свободное испарение и образование паров при кипении. В последующей работе «Nouvelles ibées sur la metéorologie» (Париж, 1787) он несколько усложнил свою теорию с целью отражения некоторых нападок; тем не менее, он не смог довести спора до окончательного разрешения.
Исследования Делюка об изменениях атмосферы были важны для физики и во многих других отношениях. Заметив, что в узких трубках ртуть стоит ниже, чем в широких, он первый предложил употреблять сифонные барометры, в которых те части трубок, где ртуть поднимается и опускается, должны быть сделаны из трубок равного диаметра. Согласно прежним данным кипячение ртути в барометрах способствовало их свечению; производя соответствующие опыты Делюк заметил, что барометры с прокипяченною ртутью дают более согласные показания, чем с непрокипяченной. Он нашел, что хотя кипячением совершенно освободить ртуть от воздуха и невозможно, но торичеллиева пустота все-таки содержит значительно меньше воздуха, влияющего на высоту ртутного столба, и что тогда показания прибора и значительно меньшей степени поддаются влиянию теплоты. До него вовсе не существовало поправок барометрических показаний на температуру, так как при различном содержании воздуха в торичеллиевой пустоте температура оказывала неодинаковое влияние на различные приборы. Делюк впервые дал формулу для указанных поправок и даже составил таблицу для них. После этого важного усовершенствования Делюк усердно занялся вопросом о применении барометра для измерения высот. Уже Галлей дал для измерения высот формулу:  в английских футах, которая приводится к более короткому выражению:
в английских футах, которая приводится к более короткому выражению:  , где h обозначает высоту над уровнем моря, В — показание барометра на уровне моря, b — показание барометра в наблюдаемом месте и А — постоянную величину. Последняя, принятая Галлеем равной 900/0,01144765, была, как можно было ожидать, еще неверна; к этому присоединилось еще отсутствие поправок на теплоту; в результате действительные и вычисленные по формуле высоты разнились так значительно, что многие физики стали сомневаться вообще в правильности галлеевского закона. Даже Даниил Бернулли в своей гидродинамике отверг этот закон и высказался в том смысле, что вопрос этот слишком сложен, чтобы найти истинный закон связи между высотой места и давлением воздуха. Многие исследователи занимались более точным определением постоянных, и, прежде всего — определением высоты, которая соответствовала бы снижению барометра с 336 до 335 линий. Цейцхер (1709), Цельсий (1730) и Шобер (1743) пытались найти эту величину путем непосредственных измерений на отвесных скалах и в шахтах. Буге («Figure de la terre», 1749 г.) вывел из своих тригонометрических измерений в Перу формулу:
, где h обозначает высоту над уровнем моря, В — показание барометра на уровне моря, b — показание барометра в наблюдаемом месте и А — постоянную величину. Последняя, принятая Галлеем равной 900/0,01144765, была, как можно было ожидать, еще неверна; к этому присоединилось еще отсутствие поправок на теплоту; в результате действительные и вычисленные по формуле высоты разнились так значительно, что многие физики стали сомневаться вообще в правильности галлеевского закона. Даже Даниил Бернулли в своей гидродинамике отверг этот закон и высказался в том смысле, что вопрос этот слишком сложен, чтобы найти истинный закон связи между высотой места и давлением воздуха. Многие исследователи занимались более точным определением постоянных, и, прежде всего — определением высоты, которая соответствовала бы снижению барометра с 336 до 335 линий. Цейцхер (1709), Цельсий (1730) и Шобер (1743) пытались найти эту величину путем непосредственных измерений на отвесных скалах и в шахтах. Буге («Figure de la terre», 1749 г.) вывел из своих тригонометрических измерений в Перу формулу:  в туазах, которая приблизительно верна для температуры в 6° Реомюра. Майер И. Т. (1751) дал еще более простую формулу:
в туазах, которая приблизительно верна для температуры в 6° Реомюра. Майер И. Т. (1751) дал еще более простую формулу:  которая достаточно хороша для 132/3 Реомюра. Делюк сначала вычислял высоты по последней формуле, но, найдя при различных наблюдениях и расчетах сильно различающиеся значения для одной и той же высоты, он это расхождение приписал преимущественно тому обстоятельству, что наблюдения производились при различных температурах. Сопоставив очень внимательно различные показания, он нашел, что все барометрические определения высот, сделанные без учета влияния температуры, должны быть увеличены или уменьшены на 1/215° на каждый градус Реомюра кверху или книзу от 163/4°. Таким образом, его формула получила следующий вид:
которая достаточно хороша для 132/3 Реомюра. Делюк сначала вычислял высоты по последней формуле, но, найдя при различных наблюдениях и расчетах сильно различающиеся значения для одной и той же высоты, он это расхождение приписал преимущественно тому обстоятельству, что наблюдения производились при различных температурах. Сопоставив очень внимательно различные показания, он нашел, что все барометрические определения высот, сделанные без учета влияния температуры, должны быть увеличены или уменьшены на 1/215° на каждый градус Реомюра кверху или книзу от 163/4°. Таким образом, его формула получила следующий вид:  в туазах. Делюк и сам хорошо понимал неполную точность своей формулы и необходимость ее дальнейшего исправления; но все-таки основа для дальнейшей разработки вопроса им была дана. Барометрическая поправка Делюка стояла в связи с его измерениями коэффициента расширения воздуха. Согласно этим измерениям, высота воздушного столба изменяется, начиная от 163/4° Реомюра, на 1/125 своей высоты для каждого градуса температуры. Ламберт определяет в своей пирометрии расширение воздуха в пределах от 0° до 100° Цельсия в 375/1000, что довольно хорошо согласуется с результатами Делюка.
в туазах. Делюк и сам хорошо понимал неполную точность своей формулы и необходимость ее дальнейшего исправления; но все-таки основа для дальнейшей разработки вопроса им была дана. Барометрическая поправка Делюка стояла в связи с его измерениями коэффициента расширения воздуха. Согласно этим измерениям, высота воздушного столба изменяется, начиная от 163/4° Реомюра, на 1/125 своей высоты для каждого градуса температуры. Ламберт определяет в своей пирометрии расширение воздуха в пределах от 0° до 100° Цельсия в 375/1000, что довольно хорошо согласуется с результатами Делюка.
По вопросу о причинах барометрических колебании в одном и том же месте мнения все еще продолжали сильно расходиться. В начале рассматриваемого периода многие физики придерживались еще того мнения, что когда барометр падает, то это означает, что где-нибудь в какой-либо части атмосферы идет дождь и потому воздух становится легче. Даниил Бернулли высказал в своей «Гидродинамике» мысль, что при повышении температуры в подземных полостях содержащийся в них воздух выталкивается в атмосферу и производит повышение барометра. Однако Клод Лека (1700—1768) первый высказал резонную мысль, что теплый воздух легче холодного, поэтому южные ветры дают понижение, а северные, наоборот — повышение барометра.
В заключение отметим, что в этот, столь плодотворный для теории теплоты период стали систематически заниматься и вопросом о лучистой теплоте. Этим наблюдениям положил начало шведский химик Карл Вильгельм Шееле, впервые употребивший и термин «лучистая теплота» в своем «Химическом трактате о воздухе и огне» (Упсала и Лейпциг, 1777), Опыты флорентийских академиков о холодном лучеиспускании почти не обратили на себя внимания. Можно еще указать на несколько наблюдений Мариотта (1682) и Ламберта о пропускании стеклом тепловых лучей. В указанном выше сочинении Шееле находятся уже следующие положения: движение воздуха не изменяет ни силы, ни направления тепловых лучей; пропуская тепловые лучи, воздух сам не согревается; стеклянное зеркало, отражая световые лучи, не отражает тепловых, а полированная металлическая поверхность отражает и те и другие и не согревается сама, если только она не вычернена.
С теоретическими открытиями в области тепловых явлений совпали крупные перевороты в техническом применении теплоты. Эти последние связаны с именем Уатта, заменившего прежнюю простую воздушно-паровую машину нынешнею паровою машиною двойного действия. Отмечают, что эти два явления были известным образом связаны друг с другом.

ДЖЕМС УАТТ родился 19 января 1736 г. в Гриноке, в Шотландии. На 18-м году своей жизни он отправился в Лондон в учение к инструментальному мастеру, но по слабости здоровья вернулся скоро в Глазго, где стал заниматься изготовлением мелких физических инструментов. Здесь он познакомился с выдающимися физиками университета; из них на него, говорят, особенно сильно повлиял Блэк, занимавшийся в Глазго своими опытами над скрытой теплотой; Уатт прочел сочинение Дезагюлье и Белирода о паровых машинах; в 1761—1762 гг. он занимался применением папинова котла к измерению упругости водяных паров и составил 1764—1765 г. таблицу упругости паров. В 1764 г. ему дали в починку из физического кабинета университета модель паровой машины Ньюкомена, которая перестала действовать или, может быть, вообще не действовала. Модель была им исправлена и с этой поры Уатт почти исключительно отдался работе по усовершенствованию паровой машины. Благодаря собственному изучению теплоты испарения Уатт понял, что впрыскивание холодной воды в цилиндр с целью его охлаждения приводит к бесполезной трате большого количества паров. Поэтому он присоединил к паровому цилиндру особое пространство для охлаждения, конденсатор, в котором и производилось сгущение паров. Но и при этом все-таки терялось много тепла вследствие того, что поршень приводился в обратное движение холодным воздухом, а также вследствие применения воды для охлаждения пара над поршнем. Это навело Уатта на мысль совершенно устранить атмосферный воздух и применить пар также и для обратного хода поршня. Чтобы обеспечить плотное прилегание последнего к стенкам цилиндра, он применил паклю с салом; он закрыл паровой цилиндр также и сверху и провел через особо устроенную коробку в верхней крышке стержень к поршню таким образом, чтобы при движениях стержня воздух не попадал в цилиндр. Благодаря этому пар стал единственной двигательной силой в машине, и Уатт мог уже снять с коромысла противовес, служивший обычно для поднятия поршня, а коромысло тесно связать с поршнем и подъемным шестом, в результате чего поршень мог приводиться в движение паром как вверх, так и вниз. Но тогда возникла необходимость в целом ряде новых изобретений. Так, оказалось необходимым заменить цепь, связывающую конец коромысла с поршневым стержнем, каким-нибудь прочным суставом. В то же время связь эту нельзя было сделать неподвижной, так как конец качающегося коромысла описывает дуги, а стержень с поршнем должны перемещаться прямолинейно. Эта задача была блестяще разрешена придуманным Уаттом приспособлением, известным под названием параллелограмма Уатта. Для того же чтобы пар как единственный двигатель мог действовать на поршень и сверху и снизу, нужно было такое приспособление, которое сообщало бы паровой котел и конденсатор попеременно и в надлежащее время то с верхнею частью цилиндра над поршнем, то с нижнею под ним. С этою целью Уатт изобрел автоматический регулятор машины. Далее, ход машины потребовал введения махового колеса и приспособления для приведения его во вращательное движение. Наконец, из конденсатора необходимо было удалять образовавшуюся там теплую воду и накачивать в него холодную. И эти задачи разрешил Уатт так, что эти функции выполняла сама машина.
Перечисленные усовершенствования были осуществлены, конечно, не сразу. Сначала производству практических опытов мешала ограниченность средств Уатта, а затем банкротство д-ра Ребока, с которым он вступил в компанию в 1768 г. Вместе с ним Уатт устроил одну только первую свою машину в угольных копях герцога Гамильтона и получил на нее патент в 1769 г. После банкротства Ребока наступил перерыв в деятельности Уатта до 1773 г., когда он нашел компаньона в лице Матью Лультона. довольно богатого человека с коммерческими способностями. С ним Уатт основал фабрику в окрестностях Бирмингема и получил в 1775 г. патент на 25 лет.
Атмосферные паровые машины производили только прямолинейное движение вверх и вниз, да и то неровно, толчками; поэтому они едва ли могли служить для каких-либо иных целей, кроме поднятия воды. Только после того, как Уатт стал приводить поршень в движение вверх и вниз силой, действующей равномерно, то усиливаемой, то ослабляемой по произволу, после того, как он снабдил машину маховым колесом на валу, — появилась возможность удобно передавать движение с парового двигателя на другие машины. Хотя вначале машины Уатта и употреблялись только для поднятия воды, но вскоре поняли возможность их применения для других целей, и они стали очень быстро распространяться, по крайней мере, в Англии и Франции, где паровую машину стали применять в качестве двигателя для других машин. Так, уже в 1788 г. Уатт и Бультон соорудили паровую машину для чеканки монет, а в 1791 г. в Лондоне сгорела паровая мельница, называвшаяся Альбионскою. О Германии же еще Поппе в 1807 г. в своей «Истории технологии» говорит следующее: «В Германии мне не известно ни одного случая применения паровой машины для приведения в движение мельницы; да и в других механических производствах она применяется очень редко. Причина этому ясна. Паровая машина стоит дорого и постоянно требует много горючего материала».
Определение действующей силы паровой машины с помощью манометра и исчисление с помощью этих данных ее мощности не представляли трудностей. Наоборот, оценка трудоспособности человека и животных была всегда делом очень трудным. Со времени появления в свет сочинения Борели «De motu animalium» механика человеческих и животных движений и измерение действующих при этом сил постоянно занимали умы. Делигар, Паран, Амонтон, Даниил Бернулли и Дезагюлье пытались определить для частных случаев главным образом границы трудоспособности животных и человека. Грэгам употреблял в качестве динамометра коленчатый рычаг с передвижным грузом на длинном плече; Леруа употреблял с той же целью спиральную пружину, а Эдм Ренье (1741—1825) уже в конце столетия устроил употребляемый до сих пор динамометр в форме эллиптической пружины. О трудоспособности человека в течение продолжительного времени и о механике его движении выдающуюся работу написал Ламберт в 1776 г.
Ламберт разбирает различные виды механической деятельности человека при бегании, тяге, толкании и пр. отдельно для каждого процесса, стараясь выразить уравнениями взаимную зависимость между грузом, скоростью и высотою поднятия. При этом он подчеркивает необходимость точно различать вид движения, соответствующий данному действию; этим, главным образом, и объясняется, по его мнению, значительное расхождение результатов, полученных такими людьми, как Даниил Бернулли и Дезагюлье. Как образец тщательного изучения какого-нибудь движения, он приводит следующий остроумный пример. При быстром беге человек употребляет ноги лишь для того, чтобы отталкиваться в надлежащий момент от земли. Так как бег есть движение падения, то центр тяжести тела описывает параболы; бегущий должен соприкасаться с землею лишь в тот момент, когда центр тяжести находится на вершине параболы — не раньше, так как в противном случае человек уставал бы бесполезно, не позже, так как иначе толчок был бы слишком силен, колена согнулись бы и центр тяжести опустился бы ниже, чем следует. Поэтому скорость бега и выносливость зависят не столько от силы, сколько от ловкости бегущего, тем более, что по мере ускорения бега действие тяжести все более уменьшается.
Кулон, о котором мы сейчас будем говорить подробнее, написал вскоре после Ламберта работу по тому же вопросу («Mém. de l'Insitut», т. II), выдвинув опять-таки новую точку зрения. Он утверждает в своем сочинении, что о трудоспособности человека нельзя судить только по работе, произведенной им за короткое время, — следует также принимать в расчет и последующее утомление. Чтобы получить из данной рабочей силы максимально возможный полезный эффект, необходимо, чтобы частное от деления полученного эффекта на вызванное им утомление представляло собою maximum. Даниил Бернулли полагал, что величина работы и утомления пропорциональны друг другу; при этих условиях, конечно, вопрос об утомлении был бы излишним. Но Кулон утверждает, что для разных случаев применения рабочей силы отношение между произведенной работой и утомлением различно и что вся задача заключается в определении именно этого отношения в каждом частном случае. Такие определения он и произвел. Даниил Бернулли определил величину дневной работы человека средним числом в 274 701 килограммометр («Prix de l'Acad.», т. VIII), Кулон же находит, что дневная работа человека, если она заключается в поднятии веса собственного тела вверх по вертикали, равна 204 601 килограммометру; если у носильщика к весу собственного тела присоединяется еще груз в 68 килограммов, то дневная работа равна только 10 900 килограммометрам, а при передвижении только собственного тела по горизонтальной плоскости дневная работа составляет 3 500 000 килограммометров. Подобным же образом Кулон рассматривает далее отдельно работы: забивание свай, вращение ворота, передвижение тачки, копание земли заступом и т. д.
В области электричества от трения как опытная, так и математическая физика уже в этом периоде довели учение до известной законченности. Экспериментальные физики усовершенствовали главным образом электрические приборы; в этом отношении уже и теперь выдается Вольта, сделавший впоследствии так много для гальванизма. Александр Вольта родился в Комо 18 февраля 1745 г., рано стал заниматься электричеством и уже в 1769 г. написал сочинение «De vi attractiva ignis electrici», за которым последовали многие другие. В 1774 г. он стал преподавателем физики в гимназии в Комо, а в 1779 г. — профессором физики в Павии. Наполеон I назначил его сенатором Итальянского королевства и возвел в графское достоинство. В 1815 г. Вольта стал директором философского факультета в Падуе. Умер он 5 марта 1827 г. в своем родном городе Комо. Полное собрание его сочинений появилось в 1826 г. в пяти томах.

В 1762 г. Вильке, производя электрические опыты со стеклянной пластиной, снабженной съемными обкладками, сделал интересное открытие, долгое время не поддававшееся никакому объяснению. Когда он разряжал пластину с обкладками, заряженную наподобие лейденской банки, и затем снимал обе обкладки или даже только одну из них, то каждая оказывалась вновь наэлектризованной и притом со знаком, противоположным тому, какое она имела, будучи на стекле. Удалив с обкладок это электричество и вновь наложив их на стекло, он замечал, что обе они опять наэлектризовались. Этот процесс Вильке мог повторять в течение многих дней ни разу больше не заряжая заново пластин. Беккария объяснил это явление в 1769 г. очень странной теорией постоянного самовосстановления электричества, согласно которой проводник и непроводник при соприкосновении их поверхностей выделяли из себя электричество, а при разъединении снова его забирали. Вольта возражал против такого объяснения и попытался вывести эти явления из теории электрических сфер действия. Вместе с тем ему пришла мысль воспользоваться подобными стеклянными пластинами с обкладками как постоянным источником электричества, и результатом этого явилось устройство им известного, удобного по своей форме, употребляемого и до сих пор прибора, который Вольта назвал elektroforo perpetuo (постоянный электрофор). В июне 1775 г. он сообщил об этом, прежде всего Пристлею, а потом и многим другим лицам. Вильке, хотя и дал первый толчок к открытию электрофора, хотя и позднее еще много поработал над объяснением сделанных им открытий, скромно заявил, что мысль о сохранении электричества не пришла ему в голову. Таким образом слава этого открытия осталась за одним Вольтой.

Электрофор оказался очень плодотворным прибором, так как он вскоре привел к новому открытию, не менее изумившему физиков. Георг Христофор Лихтенберг (1744—1799 г., профессор физики в Гёттингене) заметил случайно, что если направить электричество с острия на смоляную поверхность электрофора и посыпать ее потом смоляным порошком, то последний пристает к смоляной поверхности только местами, образуя известной формы фигуры. Далее, он заметил, что для положительного и отрицательного электричества фигуры имеют различный вид. Эти опыты в различных интересных видоизменениях он описал в трудах Гёттингенского научного общества за 1777 и 1778 гг. Большинство физиков ожидало очень многого от лихтенберговских фигур, полагая, что они дадут материал для выбора между противоположными теорией Франклина и Симмера; но вскоре оказалось, что фигуры эти одинаково объяснимы и с точки зрения единства и двойственности электрической жидкости.
Вольта между тем продолжал свои электрические работы с большим успехом. В 1781 г. он изобрел соломенный электрометр и сумел придать ему очень большую чувствительность; кроме того, эти приборы были так точны, что показания новых электрометров были сравнимы не только между собой, но и с показаниями других электрометров. Однако он не удовольствовался этим прибором и для случаев малых количеств электричества изобрел в 1782 г. электрический конденсатор, который впоследствии (1787) он связал непосредственно с электроскопом, сделав его, таким образом, важнейшим прибором для исследования очень слабых источников электричества. Из прочих изобретений Вольты за этот период времени упомянем еще об электрическом пистолете (1777) и важном приборе эвдиометре, употребляемом благодаря своей надежности еще и настоящее время.
Вообще в это время было предложено много видов электрометров. В 1779 г. Кивалло заключил пробковый электрометр Кантона в стеклянную банку, чтобы устранить влияние воздушных течений. Генли уже в 1772 г. устроил свой квадратный электрометр, а Беннет опубликовал в 1787 г. описание своего электрометра с золотыми листочками. Крутильные весы Кулона, этот наиболее тонкий прибор для измерения количеств электричества, были тоже изобретены в это время. Такое обилие приборов для измерения электричества ясно указывает, что уже созрела потребность заняться количественной стороной явлений, которые до тех пор изучались лишь качественно.
До описываемого времени электрики почти не задавались математическими вопросами, но теперь, когда в основу объяснения электрических явлений были положены жидкости с отталкивательными и притягательными свойствами, естественно возникли вопросы о количествах этих жидкостей в наэлектризованных телах и о законе зависимости сил, присущих этим жидкостям, от расстояния. Первой цели еще кое-как удовлетворяли наличные электрометры, но для второй долгое время не находилось ни приборов, ни подходящих исследователей. Так, знаменитый химик Генри Кавендиш попытался в 1771 г., исходя из теории единой электрической жидкости, определить зависимость действия электричества от расстояния. Однако он не смог допустить, чтобы уменьшение силы притяжения электричества, подобно тяжести, происходило пропорционально квадрату расстояния, и оставил вопрос о показателе степени расстояния пока нерешенным, колеблясь между 1 и 3. Надежные основы для этих исследований, приведшие к правильным результатам, были даны Кулоном.
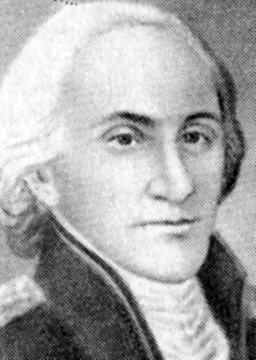
Шарль Огюстен Кулон родился 14 июня 1736 г. в Ангулеме. Окончив учение, он поступил на военную службу, пробыл несколько лет на острове Мартинике и, вернувшись оттуда по расстроенному здоровью, поступил на службу инженером по крепостным и водным сооружениям. Одновременно он занимался научными исследованиями в области механики, магнетизма и электричества. Благодаря своим научным трудам он пользовался большим почетом, получил звание подполковника инженерных наук, в 1781 г. был избран членом академии, а затем был также назначен одним из генерал-инспекторов министерства народного просвещения. Когда разразилась революция, он отказался от всех должностей и отдался исключительно научным исследованиям. Умер он 23 августа 1806 г. в Париже. Уже в 1777 г. Кулон опубликовал исследования об измерении кручения волос и шелковых нитей; позднее он присоединил к ним исследования над кручением металлических проволок и опубликовал подробное описание своих приборов в сочинении «Recherches théoriques et expérimentales sur la force de torsion et sur l'elasticité des fils de métal etc.; construction de differentes balances de torsion pour mésurer les petits degres de force» («Per. Mém.», 1784). При посредстве своих крутильных весов, которыми он пользовался при этих измерениях, он произвел тогда точные измерения электрических и магнитных сил, изложенные им в мемуарах Парижской академии между 1785 и 1788 гг. Приняв существование двух электрических жидкостей, чем он сильно помог победе дуалистической теории, он с помощью своих весов показал относительно обеих жидкостей, что их отталкивательные, а вместе с тем притягательные силы находятся в обратном отношении к квадратам расстояний. Так, например, сообщив маленьким шарикам своих весов столько электричества, что плечо крутильных весов отклонилось на 36°, он закрутил подвесную нить навстречу отклоняющей силе на 120°, и тогда отклонение уменьшилось до 18 , а когда он закрутил нить на 567°, отклонение уменьшилось почти до 9°. Значит, отклонениям шариков на 36°, 18° и 9° соответствовало закручивание нити на 36°, приблизительно на 144° и приблизительно на 576, последние же величины, а, следовательно, и отталкивательные силы действительно находятся в обратном отношении к квадратам отклонений или расстояний. Затем Кулон занялся изучением распределения электрической жидкости в наэлектризованных телах, и нашел, что и оно следует данному им закону отталкивания, именно, что в соответствии с ним жидкости не распространяются по всей массе тел и не вступают с ними в соединение вроде, например, химического; в проводниках они располагаются лишь на поверхности, собираясь в различных местах более или менее густо в зависимости от кривизны поверхности, в непроводниках же они проникают внутрь тела. Теорию двух жидкостей, равно как закон их действия, Кулон распространил на магнит; но здесь он принял, что всякий магнит состоит из множества элементарных магнитов, в каждом из которых имеются обе магнитные жидкости и действие которых находится в обратном отношении к квадрату расстояния. Затем он доказал, что всякий магнит может быть насыщен магнитной жидкостью лишь до известного предела; что магнит действует в некоторой степени на все тела; что земной полюс притягивает и отталкивает магнит одинаково сильно и что направляющая сила земли, действующая на магнитную стрелку, пропорциональна кубу длины этой стрелки. Кулоновская теория жидкостей и закон действия их сил открыли возможность математического исчисления распределения электричества на телах правильной формы, а крутильные весы дали возможность точно проверить результаты вычисления та опыте. Однако этот прибор долго не был оценен по достоинству, а зачастую экспериментаторам не хватало необходимого умения им пользоваться. Вольта считал свой электрометр более подходящим прибором для измерения, чем крутильные весы, а проф. Кэмц получил при посредстве крутильных весов для показателя степени, в которой электрические силы уменьшаются с расстоянием, не 2, а 1,237 результат, очевидно происшедший либо от неточности манипуляций, либо от негодности прибора.
В 1772 г. англичанин Джон Уэльш (ум. в 1795 г.) открыл новый источник электричества в рыбе, известной с тех пор под именем электрического ската. Raja Torpedo. Способность этой рыбы давать сильные удары была известна издавна; о ней упоминает Аристотель и Плиний, а по Диоскориту и Галену ударами ее лечили ломоту и мигрень. В новое время Реди, Реомюр и др. исследовали специальный орган, которым рыба наносит удары; но составные части его были приняты за мышцы, и удары были признаны действием мускульной силы. Когда впоследствии подобное же свойство было открыто в электрическом угре и в электрическом соме, стали подозревать электрическую природу ударов, но точно было это доказано лишь опытами Уэльша в Ларошели. Вслед за этим знаменитый анатом Джон Гунтер опубликовал превосходные описания электрического органа. Сочинения обоих авторов появились в «Philos. Transact.» в 1773 г.
В заключение упомянем о Пристлее как о чрезвычайно важном историке электричества, — ученом, который имел значение и как исследователь-физик, но больше известен своими капитальными работами в области химии. Поразительно быстрые успехи естественных наук, а также и математики не оставляли места для интереса к истории развития этих отраслей знания вплоть до половины XVIII столетия; но мало-помалу стала чувствоваться потребность обсудить с объективной точки зрения источники и ход развития науки, и в конце XVIII столетня (а также и в начале XIX) появились многочисленные сочинения по истории наук, в том числе и физики. Монтюкла в своей обширной гениальной истории математики дал подробный обзор исторического развития математической физики, а Пристлей написал хорошую историю электричества и оптики.

Джозеф Пристлей родился 13 марта 1733 г. в Фильдгеде, около Лидса. Отец его был купец, придерживавшийся пресвитерианской церкви. По окончании учения молодой Пристлей сделался учителем в Диссентерской академии в Уаррингтоне, а потом с 1767 г. — проповедником в Лидсе. Первым его сочинением в 1761 г. была английская грамматика, которая и до сих пор не потеряла своего значения. В 1765 г., в бытность свою в Лондоне, он получил предложение от Франклина, Уатсона и др. написать историю электричества. Сочинение это появилось через два года под заглавием: «History and present state of electricity with original experiments» (Лондон, 1767 г.; прибавления — 1770 г.). Оно получило всеобщее одобрение, выдержало много изданий, a в 1774 г. появилось в немецком переводе. Автор был избран членом Королевского общества. Живя в Уаррингтоне вблизи пивного завода, он стал исследовать воздух, выделяющийся при брожении, а также влияние его на дыхание и горение. Тогда же он открыл в растениях способность восстанавливать испорченный воздух. В 1772 г. он предложил способ приготовлять искусственные минеральные воды, а в 1774 г. действуя зажигательным стеклом на ртутную известь (т. е. окись ртути), он получил «дефлогистезированный воздух», т. е. кислород. В 1772 г. появилось другое его историческое сочинение, именно: «History and present state of discoveries relating to vision, light and colours» (Лондон, 1772 г.; на немецком— 1775 г.). Эта история оптики встретила в Лондоне не вполне благоприятный прием, поэтому Пристлей удалился с графом Шельберном, к которому он поступил домашним учителем, в поместье; предавшись здесь на досуге физическим и химическим работам, он, опубликовал их результаты в целом ряде сочинений. В 1775 г. он занялся философией и, несмотря на свою крайнюю религиозность, в психологии стал на сторону чисто материалистической системы Гартли, вследствие чего он разошелся со своим графом. С 1780 по 1791 г. он был проповедником в Бирмингеме, где во время народного возмущения как свободный мыслитель он потерял все свое состояние и чуть не поплатился жизнью. В 1794 г. он переселился в Пенсильванию и умер 6 февраля 1804 г. в г. Нортумберленде.
Историю физики нового времени мы заканчиваем 1780-м годом, хотя и не можем указать выдающегося гения, который начал бы с этого времени новую эпоху, и хотя сама наука не делает здесь крутого поворота в своем дальнейшем развитии. Впрочем, общего внезапного потрясения в столь обширной научной области, какой стала физика, уже нельзя было ожидать. Даже внезапное развитие такой новой отрасли, как гальванизм, уже не могло составить эпохи для всей науки в целом, тем менее могли это сделать работы какого-либо одного математика или физика-экспериментатора, так как один человек уже едва ли был в состоянии охватить целиком всю область этой науки. То же нужно сказать и о натурфилософе, который попытался бы в единой формуле подвести общие итоги всему сделанному. Итак, собственно, здесь нет такого резкого поворота в ходе нашей науки, который дал бы основание рассматривать период 1780—1790 гг. как отдельную главу истории физики или вообще отделить новую физику от современной; тем не менее, мы полагаем, что для такого разделения имеется достаточно оснований. Мы приведем эти основания и укажем ряд факторов, которые, хотя и действовали медленно, но в результате постепенно сообщили науке новый вид. Основания для такого разделения мы находим частью в самой физике, частью в соприкасающихся с ней науках.
В физике единственным элементом, обещавшим открыть новую эпоху, являлось развитие электричества. Но электричество от трения, в зачаточном виде известное уже в древности, развивалось очень медленно вплоть до начала последнего своего быстрого роста и вследствие этого оказало столь мало реального влияния на все прочие отрасли физики, что мы можем и последний период ее расцвета вполне естественно отнести к предшествующему периоду истории физики. Напротив, гальваническое электричество и основанный на ней электромагнетизм настолько чужды прежней физике, что даже самый восторженный поклонник старой науки не мог бы указать в работах греческих или римских физиков какого-либо намека на представление о гальваническом элементе или об электромагните. Но еще важнее то обстоятельство, что гальваническое электричество все сильнее влияло преобразующим образом на все остальные части физики, между тем как первый восторг, с которым были встречены в физике действия электричества от трения, испарился, как дым. Приняв существование двух отдельных жидкостей, теория электричества от трения совершенно отделила друг от друга различные части физики. Гальваническое же электричество, хотя на него и распространялась теория двух жидкостей, благодаря своему многостороннему действию на практике постепенно снова объединило то, что ранее было разъединено по теоретическим основаниям. С тех пор, как научились с помощью гальванических токов получать сильнейшие механические действия, свет, теплоту, а также стали передавать при его посредстве звуки на далекие расстояния и производить сильнейшие химические действия, фактически все отрасли физики, а также и химия оказались связанными единой силой, хотя понять и теоретически объяснить ее единство тогда еще не могли.
То мировоззрение, которое мы считаем наиболее характерным и плодотворным для физики современности, учение о единстве силы природы, нашло в гальванизме наиболее сильную и наглядную поддержку; хотя в математическом разрезе эта идея была впервые воспринята как эквивалентность механической силы и теплоты, но первый толчок к этому был дан гальванизмом, которому в будущем предстоит стать общим посредником при превращении сил. Поэтому мы уже с чисто физической точки зрения считаем наиболее целесообразным начать изложение современной физики с момента появления гальванизма и связанного с этим фактом завершения числа физических дисциплин.
В пользу последнего решения говорит и развитие родственной науки, химии, которая с этого времени приобретает все большее значение для физики. Примерно около 1780 г. химия благодаря Лавуазье получает научные основы. Точное наблюдение количественных соотношений при всех химических процессах, которое становится ей свойственным с этого времени, превращает ее в выдающуюся математическую науку, которая в своих количественных выводах приобретает чисто математическую надежность. Открытая этим путем удивительная закономерность химических явлений побуждает к дальнейшим пояснительным опытам, которые, однако, можно проводить лишь на основе каких-либо предположений о природе вещества. Поэтому химик снова становится натурфилософом раньше и в большей мере, чем физик, а так как атомная теория, если оставить в стороне чисто принципиальные трудности, оказывается чрезвычайно плодотворной для классификации и объяснения химических явлений, то химик с большим усердием разрабатывает ее и в этой работе скоро приходит в соприкосновение с физиком. Химия первая строит и все больше проверяет эту гипотезу, но скоро и физика использует доставленный ей материал. Это привело к дальнейшему усилению связи между обеими дисциплинами, которая скоро сказалась на развитии теории газов, теории теплоты и которая с течением времени становилась все плодотворнее. Правда, вследствие огромности материала, физик и химик работают уже отдельно друг от друга; но по существу связь между обеими науками все-таки никогда раньше не бывала столь тесной, как теперь.
Подобно химии, и в философии совершился в 1780 г. значительный переворот, таивший в себе задатки большого влияния на физику в будущем. Правда, творения Канта — «Критика чистого разума» (1781) и «Метафизические основы естествознания» (1776) — не могли оказать на физику непосредственного влияния. Но, с одной стороны, новые воззрения, введенные вообще в философию Кантом; настолько усилили последнюю, что она вскоре снова решилась на построение собственных натурфилософских систем; с другой стороны и физика не могла в течение долгого времени оставаться вне среды влияния кантианской философии. А в настоящее время каждому натуралисту тщательное изучение Канта определенно рекомендуется даже теми, которые не присоединяются слепо к всеобщему призыву «назад к Канту».
Если, наконец, принять во внимание, что с 1780 г., после завершения Уаттом паровой машины двойного действия, техника стала развиваться с небывалой до того быстротой, видоизменила самый строй нашей социальной жизни и, наконец, стала влиять обратно на физику, ранее полагавшую для нее пути, то понятно, что 1780-й год должен быть признан гранью, отделяющей физику прошлого от новейшей современной физики.